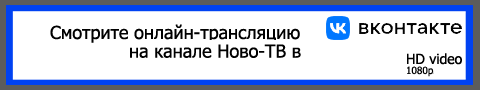Из шахтёров в штурмы
Сегодня на фронтах специальной военной операции, немалое количество донбасских и кузбасских шахтёров. Горняки, привыкшие к опасности и готовые к любым непредсказуемым ситуациям, – самый крепкий и надёжный народ за той самой, как говорят бойцы СВО, «ленточкой»! Именно шахтёры первыми стали грудью в 2014 году на защиту своей родной донбасской земли от поползновений укронацизма. Во время объявленной специальной военной операции к ним на помощь пришли кузбасские горняки. Такие, как наш сегодняшний герой – в недавнем прошлом шахтёр-новокузнечанин, а сейчас боец-штурмовик Захар Синкевич.
В своей книге «Время жить и время умирать» немецкий писатель-антифашист Эрих Мария Ремарк писал: «На войне время течёт не так, как в мирные дни». Совершенно справедливые слова. Не раз доводилось и нам, журналистам, слышать от военных, прошедших ли Великую Отечественную войну или участвующих в СВО, такое признание: «Я не могу сказать точно, сколько времени мы там провели. Секунды казались часами. Месяцы на войне кажутся годами, а годы – вечностью».
Но самые яркие эпизоды, длившиеся минутами, переходящими в часы, а то и в дни, надолго остаются в памяти, а потом оседают в стихах, дневниковых записях, которые выливаются в книгу, как у 38-летнего новокузнечанина Захара Синкевича.
Поначалу Захар, как и многие его сверстники, ещё в той, мирной жизни в течение двух лет проходил срочную армейскую службу в разведке. После военной службы, демобилизовавшись в 2008 году, шесть лет работал горнорабочим, а затем подземным электриком-слесарем на шахтах «Есаульская» и «Юбилейная».
«Я считался редким специалистом: был задействован на починке электромеханического оборудования. Моя помощь требовалась незамедлительно, когда летели контроллёры, при повреждении кабелей, обслуживании систем позиционирования, определяющих местонахождение рабочих в подземных выработках шахты, а также систем оповещения и газоконтроля. Работа для меня привычная и самая лучшая, поскольку уже на тот момент была технически оснащённой, с удобным графиком. Немаловажную роль играла и хорошая зарплата, которая в то время выгодно отличалась от оплаты в других сферах занятости. И, конечно же, интересная! Порой приходилось идти в разные концы шахты с разными задачами. А протяжённость иных шахтовых горных выработок была сопоставима с многокилометровой протяжённостью веток московского метрополитена», – уточняет он.
Стать шахтёром Захару было написано на роду: он из шахтёрской династии, насчитывающей не менее 200 лет. Семья Захара в окружении других семей горняков жила в Ближнем Куйбышево в одном из двухэтажных домов, построенных военнопленными немцами. Друг о друге в этом тесном, сплочённом соседском содружестве знали всё! Кто с кем в забое работает, в какой период времени, с каким графиком спускается в шахту…
Шахтёрами-забойщиками были два родных деда Захара – Владимир Данилович Синкевич и Борис Трофимович Ярмонов. Начинал работать шахтёром и отец Захара Юрий Владимирович Синкевич, известный в городе мастер спорта по бильярду.
«Деду Борису не раз приходилось бывать под завалами, множество раз травмироваться. Но выживал и вновь возвращался в забой. Потому что очень любил и ценил свою профессию», – отмечает внук и наследник горняцкой династии, которого дед мальчишкой брал с собой в места горных выработок. В то время (шёл 1992-й год) с этим было попроще, к присутствию в шахте детей не относились строго, да и охраны как таковой на горно-добычных предприятиях не было.
«Помню, как мы с дедом спускались в клетке вниз, к месту выработки. Мне было любопытно, интересно и в то же время страшно. Поражали гудящие вокруг потоки воздуха. Вызвало удивление и то, что шахтовое пространство изнутри было не угольно-чёрным, а белым. Оказывается, для того чтобы нейтрализовать угольную пыль, всё покрывалось инертной пылью», – рассказывает Захар.
А шахтёрское содружество не только на работе, но и после выхода из забоя было действительно крепким и слаженным. В их дворах на ул. Тушинской и ул. Лермонтова жители, в основном шахтёры, совместно проводили досуг: отцы и деды играли в шахматы и домино, а дети резались в футбол и волейбол.
Через несколько месяцев после начала специальной военной операции Захар Синкевич в конце октября 2022 года был мобилизован во время частичной мобилизации в зону СВО. На боевое слаживание попал в город Юргу, в мотострелковый полк, куда съезжались призванные на специальную военную операцию. Здесь проходило обучение новым военным специальностям. Захар учился командовать мотострелковым отделением, проходил курсы по тактической медицине. Затем новобранцев направили в Луганскую народную республику штурмовиками на краснолиманском направлении. Именно там отделение штурмов Захара Синкевича с позывным «Хлеборезка» первым вызвалось штурмовать укреплённые позиции противника.
Кстати, позывной Захара не однажды вызывал удивлённые вопросы и даже улыбку: «Почему Хлеборезка?» Оказывается, таким было его прозвище ещё в мирной жизни. Он занимался борьбой и в 2016 году выиграл турнир: одним удушающим приёмом под названием «хлеборезка» досрочно завершил все восемь схваток. Отсюда и пошло-поехало: прозвище за Захаром укрепилось.
Укреплённые позиции, которые должны были взять штурмом, – это оборудованные до зубов лесополосы, что пролегали за городом Кременная. Именно здесь наши штурмовики попали на очень сложный участок фронта. Лесопосадки, напичканные польскими наёмниками, были со сложным холмисто-горным рельефом. При пересечении этой местности штурмы Захара попали под артиллерийский огонь, атаку танка и дронов. Но, заняв позиции, наши штурмовики, хотя и с потерями, удерживали их, предпринимая новые попытки штурмовых атак.
Здесь же «Хлеборезка» и его боевой товарищ с позывным «Кузя», также родом из Новокузнецка, оставшись вдвоём «на точке», обнаружили группу диверсантов. Тотчас позвали ещё несколько штурмов на подмогу, не дав вражеской диверсионно-разведывательной группе пройти в тыл.
Основной костяк роты, в которой воевал «Хлеборезка», составляли кузбасские шахтёры, и потому можно было услышать разбросанный по разным подразделениям один и тот же позывной – «Шахтёр».
«Лично я таких позывных насчитал около пяти. Так что переход из шахтёрского братства в братство штурмов было вполне логичным. Мы как в том, шахтёрском, так и в этом, боевом понимали друг друга с полуслова. А это очень важно, когда находишься на линии боевого соприкосновения, под поливающим тебя вражеским огнём», – говорит штурмовик Захар Синкевич.
Как-то знакомый мне участник СВО, находящийся в Новокузнецке на реабилитации после тяжёлого ранения, признался: «Приезжаешь в город. Смотришь на людей, которые далеки от войны и спокойно живут, и радуешься: значит, мы выполняем свои задачи! Видна поддержка со стороны государства, со стороны нашего народа, жителей страны. Но на «гражданке» не хватает, конечно, братства. Потому что такая дружба и такое братство может быть только на войне. Здесь всё по-другому, как говорится, всё на виду».
Вот и Захар Синкевич с позывным «Хлеборезка» пытается конкретизировать это слово – «братство», уточняя: «Лучше говорить – плечом к плечу». Естественно, Захару, как всякому нормальному человеку, на войне бывало не по себе. «Но этот страх уходит, когда идёшь в бой, чувствуя плечо своего боевого друга. Когда ты со своими, не так страшно», – признаётся он.
При штурме другой, также оборудованной и укреплённой польскими наёмниками лесополосы Захар Синкевич получил тяжёлое осколочное ранение. Огнём миномёта и осколками прошило грудную клетку и поясницу, пробило лёгкое. Но он, будучи ещё в сознании, вышел из-под огня и, пройдя под обстрелом около полутора километров, сумел добраться до зоны эвакуации. И уже в эвакуационном транспорте его, с большой кровопотерей увозят в город Рубежное, постоянно трясли, заставляя оставаться в сознании. Оттуда на самолёте военно-транспортной авиации Захара доставили в Москву, в госпиталь Вишневского.
Продолжительное время он проходил реабилитацию, работая при штабе (оформлял документы, получал важные звонки), но в мае этого года Захар Юрьевич Синкевич по состоянию здоровья был демобилизован из Вооружённых сил. Возвратившись в Новокузнецк, продолжает заниматься мобилизационной подготовкой, а также гуманитарной помощью, возя её с волонтёрами на личных автомобилях в госпитали и воинскую часть Юрги. В свободное время, помогая жене, гуляет с новорождённой дочкой. Жизнь продолжается!
Человек творческий, не лишённый поэтического дара Захар намерен издать собственную книгу, в которой собраны его очерки (и не только на военную тематику) под условным названием «Хлеборезные хроники, Или очерки города Сталинска».
Охотно отзывается на приглашения поучаствовать со своими стихами в городских поэтических фестивалях, где читает в том числе и свой врезавшийся многим слушателям в душу, стих: «Когда-нибудь пройдёт война, И к нам опять придёт Победа! Что нелегка, что так трудна… Мы победим, как наши деды! Мы детям нашим и друзьям Расскажем то, как трудно было, И на поклон к своим парням Цветы возложим на могилы. Никита, Пашка и Мишанька, Алёшка, Генка, Лёха, Макс… Спасибо вам, друзья и братья, За жизнь, что отдали за нас! Мы будем помнить поимённо, Мы не забудем, не простим! И в день Победы ежегодный Мы вас помянем и почтим. И внуки наши лет чрез сто, Когда и сами будут седы, Наклеют снова на авто: «Спасибо деду за Победу!»
Просмотров статьи: 25