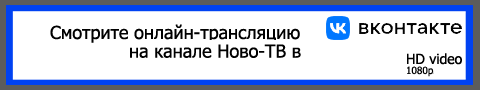"ГОРДОЕ СЛОВО ПРОШЛЫХ ЛЕТ"– оно звучит в письмах наших земляков, присланных с фронта
Сестёр-двойняшек Шипачёвых в школе №12 знают не только одноклассники. Среди своих сверстников Наташа и Таня – довольно выдающиеся личности. Ученицы 11-го класса отлично учатся. «Не сёстры – «золото»!» – отзываются о них учителя. Сёстры принимают участие в общественной и спортивной жизни школы («Мы увлекаемся лёгкой атлетикой»). С увлечением двойняшки берутся и за разработку конкурсных тем. Особо их привлекает тема Великой Отечественной войны. На днях сёстры Шипачёвы стали победителями в городском военно-историческом конкурсе «Гордость Отечества», посвящённом 70-летию Великой Победы. Ежегодно его организует военно-спортивный центр «Патриот» при поддержке городского Совета ветеранов войны и труда. И девушки участвуют в этом конкурсе не первый год.
Старшая из сестёр, Наталья, на этот раз взялась за исследование темы «Фронтовые письма».
– Когда я читаю строки, дошедшие до нас из далёкого боевого прошлого, у меня мурашки по телу бегут… Мы с руководителем музея Валентиной Вениаминовной Прожировой решили тему расширить: не просто прочесть пришедшие с фронта письма, но рассказать об истории развития военно-полевой почты, – делится впечатлениями эмоциональная Наташа.
Младшую, спокойную и уравновешенную Татьяну, занявшую в конкурсе «Гордость Отечества» второе место, заинтересовали материалы на тему «Народное образование города Сталинска в годы войны». («Мне захотелось узнать, как жили и учились наши сверстники в те тяжёлые годы…»)
Сёстры признаются – взяться за военную тематику их подтолкнуло обилие материала, скопившегося в архивах школьного музея. Тем более – Наташа избрана председателем музейного актива, и потому не прочь подать и другим пример в изучении исторического прошлого родного города: «Нельзя было позволить, чтобы такие ценные на сегодняшний момент документы пропадали в музейных архивах», – говорит старшеклассница.
Наташа Шипачёва в своей работе делает экскурс в прошлое военно-полевой почты: за первые месяцы Великой Отечественной войны Государственный комитет обороны принял решения, направленные на улучшение её работы. Запрещалось привлекать почтовый транспорт для военных и хозяйственных потребностей. Зато разрешалось цеплять почтовые вагоны ко всем видам поездов, даже к воинским эшелонам. Лишь с 1 марта 1942 года на все мешки с военной почтой стали крепиться отличительные адресные ярлыки «Воинский», и почтовый груз отправлялся в первую очередь. Задержка корреспонденции или отправка её не по назначению расценивались как должностное преступление. Наказание было подобно последствиям нарушенного приказа «Ни шагу назад!» на передовой.
Полевая почта не прекращала свою работу, несмотря на голод, холод и постоянные обстрелы. Письма доставлялись даже во время блокады и в условиях осаждённого Севастополя! Почтовики, рискуя собственной жизнью, доставляли их адресатам, пробираясь ползком под пулемётной очередью, проходя через минные поля. Им тоже, защищая свой ценный груз, приходилось брать в руки оружие.
Военно-полевая почта стала той самой единственной ниточкой, связавшей солдат с их родными. Вовремя доставленное из дома письмо было гораздо важнее, чем полевая кухня и другие скромные блага фронтовой жизни. Для посланий с фронта служило всё, что бойцу попадалось под руку: папиросная бумага, тетрадный лист, кусок плаката, канцелярский бланк.
Почтальонами чаще всего служили мужчины – общий вес корреспонденции, которую им приходилось переносить, равнялся весу пулемета – 12–15 кг. В годы войны полевая почта доставляла в Красную Армию около 70 миллионов писем (треугольников, открыток, секреток) и 30 миллионов газет.
Школьный музей предоставил Наташе Шипачёвой возможность перечесть письма наших земляков, выпускников школы. По сути её сверстников. В школьные годы они посещали аэроклуб, как, например, Пётр Екименко и Николай Саяпин. Играли на скрипке и сочиняли музыку, как Юрий Иванов. Танцевали, как Юлия Талабуева. Они мечтали о будущем и хотели быть счастливыми. В 1941 году самому старшему – Анатолию Тарапату – было 23 года, самому младшему – Владиславу Бокареву – всего 15.
Юра Иванов закончил семь классов, когда началась война. Он выучился на токаря и пошёл работать на завод. Таких, как Юра, в цехах было много. Полуголодные подростки работали по 10 часов в сутки. Но настал день, когда он последний раз вычистил свой станок, написал на нём: «Ухожу на войну» и – ушёл. А домой в Сталинск стали приходить «треугольники» с номером полевой почты. В 1944 году Юрий пишет: «Ничего, терпели три года, потерпеть несколько месяцев можно, да вдобавок сами едем приближать конец всей этой суматохе, всему невозможному, что фашисты превратили в возможное и выполнимое их грязными лапами…»
«Вчера я уже совсем преобразилась: подстригла волосы, надела гимнастёрку и брюки. Вот теперь-то начнётся настоящая военная жизнь в военное время. Придётся перенести все ужасы войны. Я же знаю, что трудно придётся, но знайте, что трудностей бояться не буду. Ведь я добровольно шла в армию. Может быть, придётся быть раненой, а то и убитой. Я хладнокровно на всё это смотрю, потому что я не первая, не последняя как на этой войне, так и в нашей семье», – пишет выпускница школы Юлия Талабуева перед отправкой на фронт. А потом в её письмах стали звучать и такие строки: «Я так втянулась в эту тяжёлую, серую военную жизнь, которую я ни на какую другую не променяю. Трое суток шли из Курска до своего полка. Такая плохая погода, ветер, буран. Расставили по квартирам по восемь человек, спали на полу, полы у всех земляные. Отдохнули несколько часов и в ночь стали двигаться дальше. Ноги потёрла, холодно, ветер пронизывает. Кашель, насморк. Но это наши будни. Бывает и у нас веселье...»
Пишут они и о своих потрясениях, когда освобождая города и сёла, видят последствия оккупации фашистов. «Вот прибыли на передовую линию, посмотрели. Ох, Вася, что они, сволочи, наделали! Где стояли наши богатейшие колхозы, остались одни пепелища. Правда, тебе это известно из печати, но вот когда сам посмотришь, то ещё больше накапливается злобы на эту коричневую чуму. Так и разорвал бы! И русский народ разорвёт. Победа близка, она будет за нами», – пишет брату Николай Афанасьев. И далее, в тон ему вторит Анатолий Тарапат: «Гоним фрицев без остановки. В сутки проходим по 35–40 километров. И этот наш путь – путь мстителей за горе и слёзы наших родных, за сожжённые города и сёла, за то, что изломали нашу молодую жизнь. Пусть фрицы навсегда запомнят нашу русскую поступь. Нигде им нет и не будет спасения. Я никогда не был и не буду убийцей, но от моей руки уже более десятка фрицев нашли себе место на той земле, на которой они хотели господствовать. До Берлина 200 с небольшим километров, а дорога домой – только через Берлин…»
А как трогательно обращались они в «треугольниках» к своим матерям! Одни на «Вы», другие писали слово «Мама» с большой буквы. Они старались оберегать их от волнений. «Мама, прошу, за меня не беспокойся по ночам. Спи, успокойся, шалью укройся, сын твой вернётся к тебе», – обещал Коля Торопов. Но не вернулся. Он погиб в феврале 1945 года, в 19-ю свою весну, в боях за польский город Катовице. Матери остались от него солдатские «треугольники», которые помнят тепло рук её сына.
Среди фронтовых писем есть особое – Ксении Андраниковны Бурмакиной, матери Павла Шиляева, погибшего в начале войны летом 1941 года. Она пишет: «Помню июнь 41-го! Помню слёзы матерей и проводы на фронт сыновей. Помню письма с фронта. Это был не голос робких и сонных, это был не страх коленопреклонённых, это было то гордое слово прошлых боёв, что взывало сердца народа к Победе. Помню письма, кипящие местью грозовой. Письма шли к Матери, Родине и к моей семье. Им на фронте было нелегко, они шли к Победе, задыхаясь в крови, не думая о себе в бою, а думая о победе над врагом. И они отдали за счастье народа свою молодую жизнь…»
Татьяна Викторова
Фото Марии Коряга
Просмотров статьи: 2315